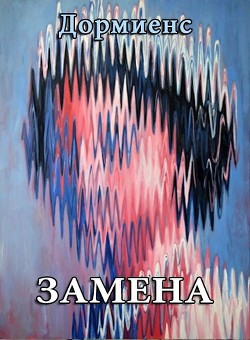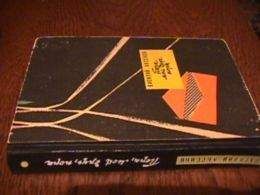«Все же детей. Даже после всего».
— EVA — это болезнь, Икари. Просто болезнь.
— Болезнь? Болезнь не усиливает человека… То есть, да, цена страшная, но мы ведь не зря так засекречены? Ну, в смысле, Ангелы понятно, но мы!..
Его повело. Я слушала Икари-куна, Икари Синдзи-куна, и слышала отклики разговоров, умных разговоров из глубин моего прошлого. Я стояла в больничной рубашке у трибуны, передо мной был невидимый небольшой зал, а мне было больно, а в глаза бился оглушительный свет, и докладчик говорил об эволюции. Этот кто-то часто звенел и булькал стаканом во время своей речи.
Его мучила изжога, а меня мучили вопросами. Вскоре закрытые слушания, доклады и рвущий на куски свет прекратились. Но память — это не корзина.
«Вы хотите окончательно удалить эти файлы? — ОК».
Было бы замечательно, потому что в моих воспоминаниях много медицинских терминов, света, много серого плеска воды в стакан. И много пустых слов, симулякров моей боли.
Превосходство. Новый виток. Второй сдвиг. Второй вид.
И снова: EVA, будущее, Homo novus, превосходство.
Превосходство.
Пре…
— От эволюции и превосходства не делают лекарств, — сказала я.
Икари-кун приоткрыл рот и отставил чашку:
— Лекарств? Вы сказали «лекарств»?
Я кивнула, внимательно наблюдая за его лицом. Вот оно: отчаянное желание, чтобы то, что меняет его организм, оказалось пускай и странным, но, главное, излечимым.
— Да.
— От этой опухоли есть лекарства? Но почему вы?..
Он запнулся, подавшись вперед, ко мне, и я почти видела, как надежда бежала от него. Так бежит из класса позорно ошибившаяся отличница: закусив кулак, дверь — нараспашку, так, что слезы взвесью остаются в воздухе.
Как же мне больно…
— Зачем вы так, Аянами? Я же…
…И как же мне не совестно.
— Мне не кажется, что ваше заблуждение — удачный выход.
— Лучше как вы, да? — остро щурясь спросил он. — Запереться, отгородиться ото всех и без лишних вопросов убивать своих учеников?
Следующая стадия: желание обидеть. Помню.
Только ему — почти удалось.
— Нет.
— Тогда посоветуйте, как лучше.
Издевка. Икари-кун явно понял только то, что хотел. Разбудил меня, выпил мой чай и… И он болен.
«А еще у него проблемы с отцом», — вспомнила я. «Рей, присмотри за Синдзи», — вспомнила я.
— Лучше вернитесь в общежитие.
— Выгоняете?
— Нет.
Синдзи поднял руки, откинулся на спинку стула и рассмеялся. Смех вышел серый.
— Все, я сдаюсь. В точности, как говорила Мана. Вы неподражаемы!
«„Как говорила Мана“. Мана. Надо запомнить».
— Ясно, — кивнула я в ответ.
Икари-кун потер глаз кулаком и с грустной улыбкой посмотрел на меня:
— А можно я к вам на урок приду? В смысле, когда вы будете хорошо себя чувствовать?
Я промолчала. У его просьбы было много смыслов, и большинство — оскорбительные. Он встал и поставил чашку на раковину, дернул за шнурок на своей пайте. Слепо провел рукой по рабочей поверхности стола.
— Наверное, я много извиняюсь, да? — спросил Икари-кун, глядя в окно. В стекле отражался он сам, отражалась моя маленькая кухня. С той стороны заглядывала невидимая осень, но никакого отношения к делу она не имела.
— Нет.
— Знаете, я не привык к этому всему. Ни на грамм, — буркнул он, по-прежнему глядя в черное зеркало. — И не привыкну.
«Я». Вот чего много у Икари-куна, подумала я, ощущая новую — которую уже? — волну раздражения. И поза какая наигранная. «Икари-кун болен, — привычно отреагировал разум. — Он узнал об этом вчера, накануне ночью убил Ангела, и половину этой ночи пил с новыми знакомыми».
Я тоже встала, поправляя ворот халата. Ноги в тапках мерзли.
Болен, надо присмотреть за ним, он пил, — это все, конечно, хорошо, но уже почти четыре часа утра. И вообще, причем здесь я? Что-то коснулось моей руки. Я опустила взгляд и увидела почти детское прикосновение: тремя пальцами, очень бережное и неуверенное.
— Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Хорошо?
Я убрала руку и кивнула. Икари-кун кивнул в ответ и, неловко сутулясь пошел обуваться.
— Спасибо, Рей, — сказал он — простой силуэт под слабой коридорной лампочкой. — И простите.
Хлопнула дверь, лица коснулся щекотный зябкий сквозняк — коснулся и исчез. Я подняла к глазам запястье, пытаясь найти там что-то на месте прикосновения Икари-куна. Запястье как запястье, кожа как кожа. Бледная, вена светится.
«Рей, иди спать», — решила я, гася в кухне свет. В темноте особенно остро вспыхнул запах прогорклого красного чая. Дом показался мне особенно пустым и темным, и я поспешила под одеяло. Привычно обожгла холодом кровать, привычно вломилась в голову обезумевшая боль, которой надоело мое невнимание к ней.
Оставалось только лежать, греть постель и одеяло и пытаться закрыть глаза, в которых стояли колючие слезы.
«Глупая боль», — подумала я и заснула.
* * *
В голове плыло что-то сладкое, почти приторное, липкое. Я выпутывалась из него, а оно одурманивало патокой, обволакивало. Ощущение было смутным, но необычайно сильным. Приятно ломили словно бы натруженные суставы. Восприятие собственного тела возвращалось толчками, нехотя и с ленцой.
«Проспала», — поняла я еще до того, как увидела часы.
Дальше был ускоренный ритм всего. Всего — в том числе и боли. Постель — можно не собирать. Притормозить, чтобы угомонить приступ. Умыться.
Линзы.
Взятая было скорость споткнулась. Можно торопливо есть, одеваться, учить урок и пить кофе, даже IV-катетер можно ставить впопыхах. Но нельзя быстро надеть контактные линзы.
Или это я просто не научилась.
«Семнадцать минут урока, — считала я. — Семнадцать тридцать две, тридцать три…» Время бежало от меня — время моего урока, на который меня даже не удосужились разбудить. Почему — решим потом.
Я уже на кухне, а песок в глазах все не проходит. Это не резь, не боль: я правильно поставила линзы, — это всего лишь ночное пробуждение, полное боли, красного чая и молодого Икари, который говорил, говорил, говорил…
«А ты все думала, думала, думала…» — закончила я мысль, ощущая знакомый по предутреннему бодрствованию прилив раздражения. Я ела хлебец, просовывая руки в рукава плаща.
Не забыть вытереть крошки, решила я, распахивая дверь в хмурую изморось. Черная глыба учебного корпуса маячила перед глазами, все остальное терялось за пределами восприятия.
Осторожно, Рей, смотри под ноги и будь осторожнее. Брусчатка, бордюры, лужи. А также коллеги, ученики и прочие.
— Аянами-сан?
Я немного замедлила шаг и повернула голову, ища окликнувшего меня. Им оказался Редзи Кадзи, инспектор и соглядатай концерна «Соул», только одетый в рабочий комбинезон и вооруженный садовыми электроножницами.
— Доброе утро, Кадзи-сан, — сказала я, переведя дыхание.
Мужчина опустил инструмент и оттянул ворот тяжелого свитера:
— Торопитесь? Я вот тоже с утра бодро взялся и что-то быстро скис. Влажность, да?
Я переступила с ноги на ногу: каблуки жгли пятки, предлагая бежать дальше, но странный инспектор — такой молчаливый и угрюмый вчера — почему-то будто держал меня на месте.
Заметив, видимо, что-то, он с полуулыбкой поднял ножницы, кивнул:
— Не спешите, Аянами-сан. Хотя-я…
Он улыбнулся чуть шире и отсалютовал ножницами.
— Хотя так у вас даже румянец есть.
Я смотрела, как он исчезает в кустах, ветви которых запутал туман, в голове звенело прощальное «доброго утра». Последней исчезла улыбка, словно у самого настоящего Чеширского Кота. Потом в сером молоке тонко взвыл невидимый электромотор, хрустнула ветка.
«Потом, Рей. Потом».
Пока я бежала до корпуса, я поняла, что меня так смутило: инспектор-садовник Кадзи Редзи странно держал в руках ножницы.
Вся его поза — слегка размытая туманом, расслабленная — отдавала кислым привкусом угрозы. Как у крови. Как у железа.
* * *